Патологія любові. Чому Заборона буде жити вічно
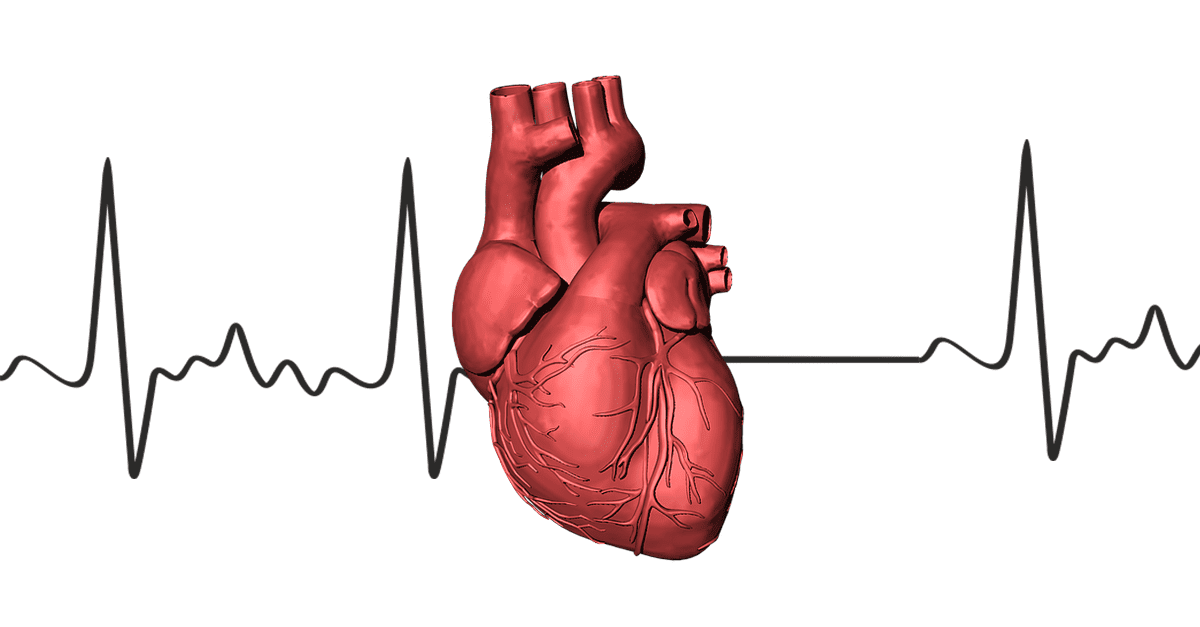
«Патологическая любовь к меньшинствам». Однажды этой фразой плюнул в Заборону один весьма уважаемый человек, главред издания, известного своей патриотической позицией. Наверное, хотел обидеть.
Контекст: после второго тура выборов Катя Сергацкова написала колонку, в которой призвала проигравшие 25% быть чуть сдержаннее. Уж больно много в те дни было ругательств, самовосхвалений, проклятий и символических попыток хвататься за пистолет. Многие трактовали колонку как письмо «от имени и по поручению» тех 2%, кто испортил бюллетени. Испортила Катя свой бюллетень или нет, неизвестно, но что касается «патологической любви к меньшинствам» — это в точку.
Для Забороны это вообще что-то вроде концепции, которую мы интуитивно чувствовали, но так до конца для себя и не сформулировали. Спасибо коллеге — помог. Среди наших материалов, действительно, много о меньшинствах. Национальных, сексуальных, религиозных, всяких. И многие из этих материалов написаны (отсняты, нарисованы) с любовью. Патологической, естественно.
И на правду мы не обижаемся. Патологическая любовь к меньшинствам — это и есть любовь к людям как таковая. Почему патологическая? Потому что любовь – сильное чувство, предполагающее выход из состояния равновесия. Это волнение, страсть, страх за кого-то… На таком фоне возможны срывы, неврозы, депрессии, приступы гиперактивности. Ну и, конечно, любовь — это почти всегда боль. Как минимум — сострадание. Еще раз: со-страдание.
Почему к меньшинствам? Тут все просто: большинства не существует. Мир большинства — умозрительная конструкция, театр с навязанными ролями. Пока индивид с неким стандартным набором физических и психологических данных способен играть отведенную ему роль, он — большинство. Малейший шаг в сторону: решил посвятить себя необычному делу, заболел, располнел, постарел или просто странно оделся — и уже в меньшинстве. Дискриминируемом.
Не думаю, что в Украине есть хоть один взрослый человек, никогда не подвергавшийся булингу, лукизму, эйджизму и т.д. Все от чего-то страдают: кто-то заикается, у кого-то ориентация «хромает», кто-то до сих пор не справился с детской психотравмой… Бесконечный список. Однако многим удается до поры до времени скрывать свою инаковость.
Любовь не слепа. Это прибор ночного видения, при наведении которого на толпу большинство исчезает, а вместо него появляются тысячи конкретных личностей со своими проблемами. Чем больше любишь человека, тем больше понимаешь, что он – меньшинство. А самые любимые люди так вообще в единственном экземпляре.
Любовь не аполитична. Лишь на первый взгляд вся эта общечеловеческая философия не имеет отношения к повестке дня украинской политики. Казалось бы, зачем говорить о феминизме, если выборы? К чему упоминать о проблемах ЛГБТ+ сообщества, когда в стране война? Какого лешего защищать ромов, если по улицам ходить опасно?
Подозреваю, есть граждане, считающие, что наша правозащитная тематика всего лишь обертка, в которую мы рано или поздно завернем какую-нибудь «сепарскую поганку». Прямого обвинения я не слышал. Но после ознакомления с несколькими фейсбучными срачами создается впечатление, что наших оппонентов, с языка которых вот-вот сорвется эта фраза, много.
Если мое прозрение верно и их действительно много, то поспешу их обрадовать: не завернем. У нас для таких граждан вообще есть сюрприз: мы отдаем себе отчет в том, что у нас под боком империя с полуфашистской идеологией. Силой ее вряд ли можно победить. Но эта империя способна развалиться изнутри, что с ней периодически и случается.
Как, когда, почему? Когда критическая масса тамошних ломов увидит, что где-то рядом живут свободные люди. Построение на постсоветском пространстве свободного общества, в котором среди главных ценностей — человеческое достоинство, — это самый страшный вызов для империи. В итоге наступит момент, когда россияне разнесут к ядреней фене свой режим. Это мечта, разумеется, но мы работаем.
Патологическая любовь к меньшинствам — это не просто политика, это невидимый двигатель истории. И мировой, и украинской. Не стоит забывать, что еще недавно украинская культура была дискриминируемой. Что украиноязычный человек на улицах Киева чувствовал себя не в своей тарелке. Что украинская интеллигенция была хрупким и уязвимым меньшинством.
Более того, именно правозащитники, то есть люди, страдающие патологической любовью к меньшинствам, пронесли желто-голубой прапор сквозь XX век. Основателем Украинской Хельсинской Группы был писатель Николай Руденко — один из инициаторов создания советского отделения Amnesty International.
Говорить о роли правозащитного движения в контексте национально-освободительной борьбы можно очень долго (и начинать нужно, конечно, с Ивана Франко – первого украинского феминиста). Охватить эту тему целиком в одной статье невозможно, поэтому ограничусь небольшим примером – расскажу о странном индейце, также страдавшем «патологической любовью к меньшинствам».
Звали его Джеймс Мейс. Родился в 1952 году в штате Оклахома. Когда вырос, стал историком. Будучи индейцем чероки по отцу, молодой аспирант Джим интуитивно выбирал темы, связанные с национальными меньшинствами, дискриминациями и геноцидами. Его семья еще хранила память о «Дороге слез» (насильственное и драматичное переселение пяти индейских племен с родных земель в Оклахому в 1830-х годах).
По стечению обстоятельств, научным руководителем Мейса оказался профессор Роман Шпорлюк – американский историк украинского происхождения. С тех пор Мейс занимался темой геноцида украинцев. Когда наши историки спрашивали Мейса, зачем ему, американцу, эта проблематика, он отвечал: «Я не знаю, почему ваши мертвые выбрали меня».
22 апреля 1988 года исполнительный директор президентской исследовательской комиссии доктор Джеймс Мейс представил конгрессу США отчёт, в котором искусственный голод впервые был квалифицирован как геноцид. Ученый доказал миру, что в 1933-м украинцы пережили Голодомор. В том самом 1933-м, когда США установили дипломатические отношения с СССР. К отчету прилагалось несколько томов-свидетельств, собранных комиссией за несколько лет. С высоты Капитолийского холма вся наша национальная трагедия выглядела как акт дискриминации национального меньшинства (украинцев) в советской России.
В начале 90-х Мейс перебрался в Киев, женился на украинской писательнице Наталье Дзюбенко. Супруги купили квартиру на Троещине. Уже немолодой ученый преподавал в Киево-Могилянской академии и боролся с бытовыми невзгодами. Его часто грабили троещинские гопники.
Однажды Мейса почти до смерти избил сильно выпивший человек, впоследствии оказавшийся подполковником милиции. После этого случая профессор прожил еще несколько лет. Это была мученическая жизнь: Мейс не выбирался из больниц, перенес несколько тяжелых операций. Ему постоянно требовалось переливание крови. Донорами стали писатели, журналисты, ученые, сотрудники бухгалтерии газеты «День», где Мейс часто печатался.
Не знаю, был ли Мейс религиозен, но какое-то мистическое отношение к крови в нем было. Его жена, Наталья Дзюбенко-Мейс, рассказывала мне, что он просил записывать имена доноров: «Костенко, Фейнберг, Ильина…» Напротив каждой фамилии — национальность. Мейс высчитывал, сколько в нем в процентном соотношении той или иной крови: индейской, ирландской, еврейской, русской, белорусской, украинской… Наконец наступил момент, когда он произнес: «Я стал украинцем».
В эти сложные годы он работал по мере сил и даже выступил в Верховной Раде. Незадолго до смерти профессор предложил ввести традицию – в ноябре зажигать свечу в память о жертвах Голодомора. Инициативу подхватил тогдашний президент Виктор Ющенко. Традиция прижилась.
Вот такая история «патологической любви к меньшинствам».
Дело Мейса обречено на вечность. И дай Бог, чтобы у нас была хоть капля такой любви. В этом случае и наша работа не прервется.
Заборона переживает не самые легкие времена: с июня мы пребываем «на паузе». Это не эвфемизм, не аллегория смерти: мы действительно живем, периодически публикуем новые материалы и будем публиковать. Только денег у нас нет. Мы ищем доноров.
И – уверен – найдем.



